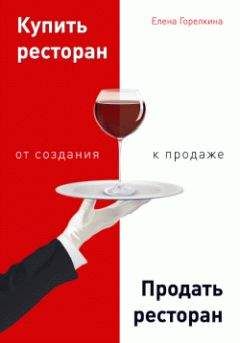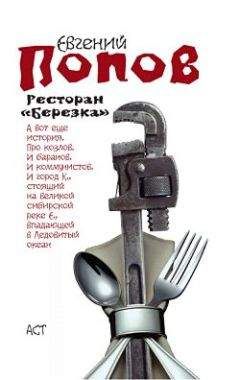Эндрю Круми - Принцип Д`Аламбера
Сегодня Жюстина собиралась продолжить чтение книги об обращении Константина. Она запомнила страницу, что делала всегда, чтобы не оставлять закладок или иных следов своего вторжения в библиотеку. Жюстина быстро протерла пол, поставила щетку у двери и пошла за книгой, оглянувшись предварительно на дверь, которую было не видно от полок. Опустившись на пол, она положила на колени раскрытую книгу, но вскоре поняла, что у нее нет настроения читать,
Она подумала о мсье Д'Аламбере. Он вдруг снова начал писать, и, кто знает, может быть, ему вздумается пойти в библиотеку, где он увидит ее, пребывающую в праздности. Ее уволят, и им с Анри станет негде и не на что жить. Интересно, что пишет хозяин, одиноко сидя в своем кабинете?
Ей показалось, что раздался какой-то звук. Жюстина захлопнула книгу. Сердце бешено застучало. Она встала и поставила книгу на место, но потом поняла, что снаружи никого нет. Она подошла к двери, взяла щетку и выглянула в коридор. Может быть, старик бродит по дому? Нет, это, наверное, уехал Анри.
Жюстина, поминутно оглядываясь, продолжила уборку, пока не дошла до двери кабинета. Открыв ее, увидела, что Д'Аламбер по-прежнему сидит за столом, большим столом, который он когда-то велел повернуть так, чтобы сидеть спиной к двери и не видеть входящей и выходящей прислуги, пребывая в полной иллюзии, что работает в одиночестве. Завтрак остался нетронутым. Этот человек был создан только для того, чтобы мыслить, учиться и писать. Жюстина завидовала Д'Аламберу, забыв о гневе и печали, которые он испытывал по неведомой ей причине. Совсем недавно она слышала, как он смеялся — будто над собственной работой, но поняла, что то был выхолощенный, пустой смех. У него была серьезная цель, и сейчас старик писал молча. Стол был завален письмами и документами, некоторые валялись на полу. Когда Жюстина взяла с обеденного стола поднос с завтраком, старик, казалось, этого не заметил.
V
В 1729 году, в возрасте двенадцати лет, меня отдали в знаменитый Коллеж-Мазарен, и только там я ощутил стимулирующее влияние учителей, которые, казалось, понимали математику лучше, чем ее в то время понимал я. Но все же меня выводили из себя долгие часы, проведенные за изучением столь бесполезных предметов, как церковная история или история злодейских подвигов тиранов и завоевателей, людей, ничем не отличавшихся от Медведя, единственными достижениями которых были несчастья и страдания, что они сеяли всюду, где появлялись. То были долгие часы, которые я предпочел бы посвятить собственным вычислениям. Я никогда не испытывал интереса к истории в том виде, в каком она представлена в учебниках, — скучному и бессмысленному перечислению событий, считающихся великими только в силу высокого положения и могущества их участников. Мой интерес возбуждает лишь история, представляющая собой сведения о тех, кто достиг чего-либо ценой собственных дарований и достоинств.
В Колледже я особенно полюбил одного из учителей. Он, как мне кажется, писал оригинальные работы по математике; он не просто излагал нам факты, но глубоко понимал то, что рассказывал, и это делало его уроки интереснее всех остальных. Это был низкорослый, тучный, страдавший одышкой человек, у которого, несмотря на возраст (ему было тридцать или сорок лет), было совершенно мальчишеское лицо, что делало его очень привлекательным и располагающим к себе. Однажды он обратился к нам с мыслью, которая будто бы только что пришла ему в голову:
— Представьте себе корабль, плывущий по морю с постоянной скоростью.
Я вообразил себе один из кораблей, виденных мной на восхитительных книжных иллюстрациях (тогда я еще ни разу в жизни не видел моря).
— Теперь скажите мне, — продолжал мэтр, — какова скорость корабля в единичный мгновенный отрезок времени?
Были предложены самые разнообразные ответы, но в конце концов большинство из нас сошлось на том, что поскольку мгновение не имеет длительности, то за это время корабль не успеет пройти никакого расстояния, и, следовательно, его скорость равна нулю.
Учитель просиял:
— Но это означает, что в любой отдельно взятый момент времени корабль стоит на месте! В таком случае как же он движется?
Это был парадокс, который, по словам мэтра, впервые высказал Зенон из Элей, живший около двух тысяч лет назад. Учитель предложил решение, но оно показалось мне неубедительным, и я решил глубже обдумать этот предмет. Только со временем я узнал, что задача уже была решена Ньютоном, и его метод решения, известный как исчисление бесконечно малых величин стал впоследствии главным инструментом всех моих дальнейших исследований поведения твердых тел, жидкостей, а также звезд и планет. То, что все виды движения, а следовательно, и вся Природа как таковая могут быть сведены к одной великой задаче исчисления, — это идея, способная привести к предположению, что мы имеем дело с Великой Истиной, единым законом, лежащим в основе всего, что мы видим. Уже в юные годы я понял и осознал, что при таком новом видении космоса в нем может не остаться места для Бога.
Сон вел меня по событиям моей жизни, не придерживаясь строгого хронологического порядка. Правда, я определенно почувствовал, что в переписанном любопытным образом «Трактате» те свершения, которым я обязан своей славой и которые занимали меня на протяжении первых трех десятилетий моего земного существования, явились практически не более чем леммами, предвосхищавшими главные результаты работы. Итак, позвольте мне суммировать эти леммы.
После окончания Колледжа я вернулся домой к моей приемной матери мадам Руссо (муж ее к тому времени умер) и некоторое время изучал право и медицину, поскольку меня убедили, что на этом пути я смогу сделать достойную карьеру. Но математика продолжала манить меня, и каждый свободный час я проводил в публичной библиотеке. Мне хватило времени только на то, чтобы освежить в памяти результаты великих математиков прошлого — все остальное мне предстояло вывести и доказать самому. Я начал серьезно работать над задачей приложения исчисления к движению планет.
В 1739 году, в возрасте двадцати двух лет, я представил в Академию Наук свой первый доклад. Два года спустя я был принят в Академию на правах члена-корреспондента по астрономии. Моя академическая карьера стала быстрой и успешной. В 1743 году был опубликован мой «Трактат о динамике», великая работа, принесшая мне известность и славу. В ней я представил важный принцип, согласно которому (с использованием теории исчисления бесконечно малых величин) все виды движения могут быть сведены к вычислениям положений покоящихся тел. В следующем году я обобщил свои результаты в приложениях к потокам воды и воздуха и, таким образом, представил математическое выражение элементарных законов, управляющих явлениями, наблюдаемыми в природе.
Я также изучал задачу, которая вызывала большие трудности еще до появления работ Ньютона. По какому закону изменяется форма вибрирующей струны во время ее колебаний? Мои споры с Эйлером на эту тему продолжались годы, но в конце концов все согласились со справедливостью дифференциального уравнения, впервые выведенного мною в 1744 году.
К этому времени покинутый ребенок превратился в мужчину — низкорослого, немного комичного, который с восторгом забавляет других, так как навсегда запомнил насмешки, которыми его осыпали в школе. В мужчину с таким высоким голосом, что некоторые называли его фальцетом, и с отнюдь не красивым лицом (находились злопыхатели, считавшие мое лицо женоподобным). Несмотря на это, забавный человечек с неподражаемым мастерством умел копировать слишком серьезно относившихся к себе людей и веселить любое собрание. Кроме того, я быстро становился самым прославленным математиком Франции.
Мой визит в собрание Академии состоялся как раз в тот момент, когда некий молодой человек приблизительно моего возраста представил туда свой доклад, посвященный новому способу музыкальной нотации. Этого человека звали Жан-Жак Руссо (он, конечно, не был родственником моих приемных родителей), он предложил остроумную систему использования цифр вместо традиционных ключей и нот. Рамо не одобрил эту систему, хотя, на мой взгляд, она не была лишена достоинств.
Руссо зарабатывал на жизнь уроками музыки, но горел желанием стать частью интеллектуального парижского общества. До того, как я познакомился с ним, он уже успел, заручившись рекомендательными письмами, постучаться во многие двери. Он был удручен тем, что собрание Академии без всякого энтузиазма отнеслось к его предложению, но настроение его несколько улучшилось после того, как я предложил написать ему очередное рекомендательное письмо. Когда я встретил его на следующий год, он уже утвердился на новом поприще. Руссо собирался основать периодическое издание под названием «Персифлёр» и предложил мне сотрудничество. Его компаньоном в этом предприятии был некто Дени Дидро, и я решил встретиться с обоими за обедом.